| «Танатологика» декадентского кино и образ «Потустороннего Другого» |
| Автор: Olga Kirillova |
| 27.08.2011 20:24 |
|
«Танатологика» декадентского кино интереснейшим образом связана с идентификацией. В психоанализе Жака Лакана идентификация субъекта происходит на так называемой «стадии зеркала», но кинематографическое зазеркалье после выхода на экраны парадигмального «Орфея» Жана Кокто в 1950 перегружено танатологическими подтекстами, и лакановская «идентификация с зеркальным образом» превращается в идентификацию с собственным «потусторонним двойником». Об этих аспектах: психоаналитическом и танатологическом хотелось бы сказать подробнее. Но вначале напомним о самой «культурологической проблеме декадентского кино»: в статье с таким названием год назад нами был обоснован отдельный эстетический феномен, имеющий место в отечественном кинематографе [Кириллова О. Декадентское кино как культурологическая проблема.] Его хронологические рамки охватывают всю историю отечественного кинематографа от 1910-х гг. до наших дней, а проблематика не замыкается исключительно на культуре символизма рубежа ХІХ–ХХ вв. (хотя всё же кинематографические произведения, отражающие эту эпоху во всей полноте, имеют для нас первостепенную ценность), но распространяется и на эстетические проявления декаданса в наши дни (более подробно об определении «декадентского кинематографа» см. указанный текст). «Культ субъекта» в культуре декаданса — это культ субъекта «сверхчувственного». «Я» в культуре декаданса соотносит себя с безличностным Абсолютом и одновременно с Другим-собою в лакановском расщеплении между «je» и «moi», которое формируется, по Лакану, на «стадии зеркала» и позиционирует «moi» — идеализированный дистанцированный образ «я» в некой зеркальной перспективе по отношению к субъекту. Фундаментальный нарциссизм, связанный с лакановской стадией зеркала и характерный для культуры декаданса в целом, резонирует в автореферентности, аутоэротизме и, если будет позволено так выразиться, автодиалогизме, поскольку расщепление сознания героев произведений декаданса претворяет их монологи во внутренние диалоги: и поиск смысла, и поиск любви весьма характерным образом замыкается на себе. И поскольку феминоцентризм декаданса рубежа ХІХ–ХХ вв. — одно из «общих положений» его эстетики, во многом искусство декаданса сводится к исследованиям женской субъективности (собственно, на этой почве и «возрос» примерно в те же годы психоанализ Й. Брейера — З. Фрейда — К. Юнга). Это подтверждается и тем, что все произведения в весьма ограниченном перечне фильмов «декадентского кинематографа», в которых представлена тема «двойника», «зеркального образа» субъекта, предлагают нам именно «женские истории» (что характерно, без исключений). Таким образом, связанные с лакановским определением «стадии зеркала» понятия «идеализации» и «первичного нарциссизма» проявляются здесь в эгоцентрическом и аутоэротическом замыкании женского начала на себе, отчужденном и осмысленном как Другое (Другая). В рассмотрении этих случаев мы опираемся на лакановское определение стадии зеркала как некой идентификации «во всей полноте смысла, придаваемого этому термину анализом, а именно, как трансформацию, происходящую с субъектом, когда он берет на себя некий образ»[1]. В декадентском кинематографе «зеркальный образ», являя собою стратегии визуализации нарциссической идентичности, наделен и дополнительным измерением: зазеркалье как сфера воображаемого, наделена одновременно и коннотациями сферы потустороннего, загробного, и эта тема отражена в теме «двойника». Одна из важнейших линий в декадентском кинематографе первого и последнего десятилетия ХХ века — это «брюсовская линия». Фактически, Брюсов определяет основы «декадентской танатологии» в кинематографе от его истоков. Тяга к углубленному исследованию женской психологии, доходящая до «лингвистического трансвестизма», и угадываемый за всем этим «комплекс Тиресия» - всё это несомненно роднит писателя-символиста Валерия Брюсова с психоаналитиком Жаком Лаканом. «Он идентифицировал себя с женщинами-пациентками, с их страданием, их муками»[2] (Катрин Клеман о Лакане). «Ай-ай, ах-ах, ой-ой, мне больно. Где же Валерий Брюсов? Или его больше нет?»[3] (Константин Бальмонт — по поводу выхода повести Брюсова «Последние страницы из дневника женщины»). «Иногда мне кажется, что всё это происходит не со мной, а я лишь безучастно гляжу на себя со стороны» - эти слова героини фильма Андрея Харитонова «Жажда страсти» (1990) напрямую перекликаются со словами Артюра Рембо «Я — это Другой» (“Je suis un Autre”); они появились в авторизованном сценарии — их не было ни в одном из основных литературных первоисточников сюжета: произведений В.Я.Брюсова «Последние страницы из дневника женщины», «Теперь, когда я проснулся» и, в первую очередь, рассказа «В зеркале». Этот небольшой рассказ, написанный в 1903 году, является одним из наиболее ярких в литературной традиции примеров «идентификации с зеркальным образом», в его лакановском понимании. Героиня новеллы Брюсова, как мы помним, «захвачена своим зеркальным образом» отродясь — произошло некое «застревание на стадии зеркала»; обязательный для этого отмеченного Лаканом этапа «первичный нарциссизм» трансформировался в нарциссизм фундаментальный, патологический: «Я зеркала полюбила с самых ранних лет. Я ребенком плакала и дрожала, заглядывая в их прозрачно-правдивую глубь. Моей любимой игрой в детстве было — ходить по комнатам или по саду, неся перед собой зеркало, глядя в его пропасть, каждым шагом переступая край, задыхаясь от ужаса и головокружения»[4]. Эта чрезвычайно важная в поэтике брюсовской прозы (и ее экранизации) преступлённая грань зазеркалья имеет, как минимум, тройной смысл: 1) невозможное преодоление разрыва — по Лакану, интранзитивного — между «я» и «идеальным я», формирующееся именно на стадии зеркала (структура субъекта, по Лакану, всегда конституирует в себе фундаментальный разрыв); 2) транзитивный, возвратный переход за грань зазеркалья как потустороннего мира (эта тема раскрывается «В зеркале» далее); 3) нравственная метафора «преступления» как перехода за грань добра и зла и открытия своей «истинной» природы, всегда порочной (эта тема, актуальная в творчестве Брюсова, наиболее раскрывается в другой истории «из архива психиатра», в новелле «Теперь, — когда я проснулся»). Здесь невероятно важен соматический (телесный) аспект «зеркального образа», который у Брюсова раскрывается двояко: и в отождествлении тела реального с телом виртуальным, и в телесном ощущении самого зазеркального пространства, как гиперреального пространства умножения и трансформации собственного образа: «Моей единственной страстью стало отдавать свое тело этим беззвучным далям, этим перспективам без эхо, этим отдельным вселенным, перерезывающим нашу, существующим, наперекор сознанию»[5] Лакан отмечает важность «морфологического миметизма» в «манифестируемом стадией зеркала присвоении пространства». Ребенок на «стадии зеркала» (начиная с полугодовалого возраста) идентифицирует своего Другого в зеркале с собою именно по его движениям, которые суть — повторение его собственных движений; момент воли здесь чрезвычайно важен: связь между собою-здесь (je) и собою-Другим (moi), общая нить движений, которой связаны амбивалентные «кукловод» и «марионетка», возникает благодаря осознанному подчинению зеркального двойника собственной воле. Но при этом парадокс в том, что двойник-марионетка видится более совершенным, чем априорный носитель образа (изначально, по Лакану, полугодовалый ребенок, не умеющий говорить и ходить). Априорная визуальная идеализация Другого трансформирует его в некий «объект-агальму», «сокровищницу смыслов» (лакановский парафраз античного образа из диалога Платона), а затем в рассказе Брюсова происходит интересное высвобождение моторики зеркального двойника-Другого как начало развития его манипулятивной стратегии: «Она повторяла все мои движения, и ни одно из этих движений не совпадало с тем, что делала я. Та, другая, знала то, чего я не могла разгадать, владела тайной, навек сокрытой от моего рассудка»[6].
«Зеркальный образ» у Брюсова неоднозначен: параллельно с определением «Та, Другая» как формой самоидентификации нарциссического женского субъекта: «Я, Другая», возникает плюральность зеркальных двойников, контекстуально зависящих от качества и типа зеркал: каждый из них индивидуализирован тем зеркалом, которому он принадлежит, и двух одинаковых быть не может, но в то же время, только одно, идеально найденное зеркало может стать «точкой входа» в инобытие зазеркалья: «Зеркало, ставшее для меня роковым… большое, качающееся на винтах, трюмо. Оно меня поразило необычайной ясностью изображений. Призрачная действительность в нем изменялась при малейшем наклоне стекла, но была самостоятельна и жизненна до предела. Когда я рассматривала это трюмо (…) женщина, изображавшая в нем меня, смотрела в глаза мне с каким-то надменным вызовом»[7]. Порабощение и поглощение субъекта собственным образом, воспринятом, как Другой («Та, Другая»), редуцирует его к роли отражения собственного отражения, принуждая женщину целые дни проводить перед зеркалом с его гипнотическим взглядом и, наконец, безвольно повторять движения зеркального двойника (поэтика этого образа — «отражение отражения», подчеркивающее несамодостаточность и вторичность «перечёркнутого» (опять же, по Лакану) субъекта невольно перекликается с образом Бальмонта — парафразом тютчевского образа: «Другие — дым, я — тень от дыма, я тем завидую, кто дым». Кульминация: обмен символическими местами — обмен телами (реальным и виртуальным) описывается в новелле Брюсова достаточно суггестивно: «Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студеную воду. Холод стекла проник в мое тело с ужасающей болью, словно все атомы моего существа переменяли свое взаимоотношение. Еще через мгновение я лицом коснулась лица моей соперницы, видела ее глаза перед самыми моими глазами, слилась с ней в чудовищном поцелуе. Все исчезло в мучительном страдании, несравнимом ни с чем, — и, очнувшись из этого обморока, я уже увидела перед собой свой будуар, на который смотрела из зеркала»[8]. Аналогичная кульминация взаимодействия реальной женщины и её демона-двойника в фильме А. Харитонова представлена в виде эстетизированной лесбийской сцены (первой в истории советского кино — если этот факт для историков кино может представлять интерес). Цветовой контраст черного и белого в этой сцене и в визуальном ряду фильма как таковом представляет «взаимоперетекание противоположностей» в некоем динамичном тайцзи, где и теневая сторона, и белый свет абсолюта соотнесены с женским началом, симбиотичным и самодостаточным. Зеркальный двойник как «подлинное я» субъекта вводит в поэтику фильма Харитонова измерения «лжи» и «истины» - «лжи» как модальности обыденного существования светской женщины (по Брюсову) и «истины» в её психоаналитическом понимании. Истина здесь безусловно отождествляется с лакановской (изначально — ницшеанской) женщиной — она всегда «не-вся», всегда изменчива и контекстуальна. Психоаналитическое измерение, являя собою подоплеку всей «феминологической» прозы Брюсова (от новеллистики до «готического романа» «Огненный ангел»), напрямую вводится авторами фильма в сюжет: главная героиня — пациентка психоаналитика, который вначале выслушивает от неё историю её мании, а потом пересказывает её следователю, то есть история воспроизводится неоднократно. Это важно, что у «дневника женщины» здесь есть заинтересованные читатели, у сюжета — видимые интерпретаторы: он утрачивает брюсовское измерение «текста в себе», «письма в бутылке», адресованного никому. Присутствие детектива делает сюжет герменевтичным. В новелле Брюсова развитие нарратива образует собою симметричную фигуру, подобную графической горизонтальной «восьмёрке» бесконечности: нарушенное равновесие (поглощение субъекта зеркальной реальностью, водворение зеркального образа в реальности «первичной») возобновляется, когда восстанавливается статус-кво (зеркальный «двойник» обретает своё прежнее место). В фильме «Жажда страсти» многократно усложнённый кинонарратив остается незамкнутым: реальность зеркала (зеркал) вписывается как вторичная в комплексную мистическую реальность Дома, где царят неведомые инфернальные силы, которые то и дело воплощаются в персонажей фильмов ужасов (типичных для западного кино 1980-х) и «убирают» всех свидетелей интриги: мужа, горничных, помощника следователя, покушаясь на главных действующих лиц — следователя и врача. Мотив убийства мужа главной героини, отсутствующий «В зеркале», отражающем лишь бессобытийную реальность бессознательного, заимствован из другого произведения В. Брюсова — «Страницы из дневника женщины», убийство её самой — нарративный ход авторов сценария. Стоит отметить, что повесть «Страницы из дневника женщины» была также экранизирована в 1990 году режиссером В. Паниным[9]. Несмотря на откровенно кичевый характер экранизации, не претендующей на раскрытие культурологической и психоаналитической проблематики, в этом произведении также можно увидеть необычные аспекты интересующей нас «зеркальной» идентификации «Я, Другая». Модель поведения главной героини, «роковой женщины» Натальи казалось бы, радикально отличная от вышеописанной, на самом деле сводится к тому же «воплощению в собственное отражение», которое замыкается на себе. Брюсовская дихотомия «лжи» и «истины» как «первой» и «подлинной» природы женщины здесь также актуальна. Диффузная сексуальность героини коррелирует с её расщеплённостью в плюральности отражений (проекций направленных на неё мужских желаний), тогда как сам отражаемый субъект исчезает, испаряется, перестает существовать. Её предельная самоотчужденность выдает восприятие себя только в качестве «Другой», в отсутствие «Я» — происходит полное слияние с зеркальным идеализированным образом и растворение в нём. Характерно, что в интерьере, эклектичном, лишённом стилистических черт модерна, «говорят» только зеркала: зеркало в будуаре героини, красноречиво соседствующее с букетов нарциссов (неестественно поздних цветов, так как действие фильма происходит в московском мае), а также зеркало в большой рельефной раме со скульптурными украшениями, диссонирующее с прочим «традиционным» антуражем явной стилизацией под скульптурный стиль А. Голубкиной — оно служит фоном иллюзион-перформанса случайного встречного, называющего себя «Дон Жуаном». Выполнив свою программу «роковой женщины»: став причиной убийства мужа и самоубийства юного любовника (третий из окружавших её мужчин приговорен за убийство к каторге), Наталья находит свой «женский двойник», объект идеального инцестуального симбиоза, отвечая взаимностью на лесбийскую страсть своей младшей сестры-девственницы — но этот аспект «зеркального образа» будет интересовать нас в третьей его модификации: сестра как «Я, Другая».
Возвращаясь к интерпретации фильма «Жажда страсти», стоит отметить, что амбивалентность субъекта и двойника в этом кинонарративе уравновешивается амбивалентностью живого и мертвого как состояний биологической субстанции. Завлекая в зеркало реальную женщину, двойник, демон в женском обличье, помещает ее в некое пространство небытия, одинаково потустороннее и по отношению к жизни, и по отношению к смерти — воспользуясь сакральной терминологией иудаизма, некий гомогенный теневой шеол, до его дихотомической поляризации на эйден и гадес. Разгадав по тексту дневника женщины причину происходящих событий, детектив и врач убивают (физически!) демона-двойника, после чего реальная женщина умирает на руках врача, освобожденная из небытия, которое можно считать зазеркальем только условно. Драма «подлинной» идентификации, первичная у Брюсова, претворена в экранизацию в драму жизни и смерти, их взаимосвязанных и перекрещивающихся пространств. «Я» как зеркальный двойник, танатологически окрашенный, трансформируется в дальнейших поисках постмодернистского кино «неодекаданса» (декадентской эстетики на материале современности). В «Богине» Ренаты Литвиновой (2004) генеалогию зеркального потустороннего двойника следует очевидно вести от «Орфея» Жана Кокто — хрестоматийного танатологического кинотекста, задавшего каноны восприятия феминного образа смерти, соотношения экранных пространств жизни и смерти через зеркало и т.п. Однако принципиальная феминоцентричность «Богини», нарциссическая амбивалентность женского субъекта и двойника-отражения сближает этот фильм с произведениями «декадентского кинематографа», такими как «Жажда страсти». Как и в «Орфее» зеркало является входом в загробный мир, но здесь потусторонний зеркальный двойник подменяет собою героиню в мире живых, пока она странствует в запредельных пространствах. В данном случае это не двойник-демон (как в аналогичной ситуации в фильме «Жажда страсти»), но двойник-душа, подобный древнеегипетским аналогам «телесных душ» человека «ка» и «саху». Это явно «нарциссическая душа», которая объясняется в любви своему земному двойнику, а та, в свою очередь, признает: «Я никогда никого не любила…» Феминизированный вариант странствия в загробный мир инвертирует архетипический сюжет античной мифологии, в котором герой ищет совета у тени умершего отца — здесь главная героиня одержима образом покойной матери, связь с которой она непрерывно сохраняет в земной жизни и к которой стремится в потустороннем мире. В этом феминоцентричном Аиде мужчина может быть значим только как медиатор: профессор «Михаил Константинович», коллекционер зеркал, выполняет эту роль по отношению к Фаине (имя главной героини можно интерпретировать как анаграмму имени Афины-девственницы, самодостаточной, партеногенной богини). Идентификация с Другим как потусторонним зеркальным двойником и фундаментальный нарциссизм этой идентификации позволяет рассматривать декадентский кинематограф как некую дифференцированную феминоцентрическую вселенную, в зеркальных галереях которой двойники множатся до mise en abyme.
Наряду с описанной, другие, альтернативные формы идентификации центрального женского субъекта по лакановской схеме «зеркального образа» — «Я — симулякр: живое и мёртвое» и «Я-в-перспективе: образ сестры» рассматриваютя нами в статье «Я как Другой (-ая), двойник как лакановский зеркальный образ в танатологических рефлексиях декадентского кинематографа», опубликованной во втором выпуске Международного журнала исследований культуры «Свое и Чужое в культуре». Нарцисс и Танатос — два лика субъекта в декадентском кинематографе, есть ли в расщеплении между ними место любви? [1] Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я. // Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. — М.: Гнозис, 1996. — С. 35. [2] Clément, Catherine. The Lives and Legends of Jacques Lacan. — NY: Columbia University Press, 1983. — С. 56. [3] Литературное наследство. Т. 98. Кн. 1. С. 226. Цит. по М. В. Михайлова «В. Я. Брюсов о женщине (анализ гендерной проблематики творчества)». [4] Брюсов В. Я. В зеркале. // Антология «Полночь. ХІХ век». — М., 2005. — С. 19. [5] Там же. [6] Там же. [7] Там же. [8] Там же. [9] Опускаем здесь зарубежную экранизацию 1994 года «Откровения незнакомцу» режиссера Жоржа Бардавилля (Франция), где от повести Брюсова оставлена только сюжетная линия, несколько видоизмененная, но культурно-эстетический контекст опущен авторами фильма как несущественный. |
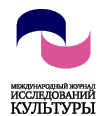





















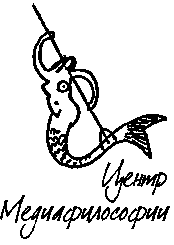
 «Танатологика» декадентского кино и образ «Потустороннего Другого»
«Танатологика» декадентского кино и образ «Потустороннего Другого»