| К проблеме наездницы русского постмодернизма |
| Written by Olga Kirillova |
|
Посвящается В. Л. Рабиновичу Насмерть загоню? Не бойся — ты же, брат, не Брут: Из цикла «Москва» (Феодосия, 2001).
В статье Александра Люсого, опубликованной на сайте «Международного журнала исследований культуры» 13.04.2011, всплывает неожиданная метафора — «Всадница Лаканомики», вынесенная в заглавие. Парадоксально, что сам визуальный образ названной Люсым Всадницы петербургского текста оказался предметом умолчания в упомянутой статье, что остается отнести по ведомству симптоматичной (авто-) цензуры. Дискурс лакановски обрывается, «ставя пунктуацию» на визуализированном означающем боттичеллиевой Венеры (живописном знаке, воплотившем набоковскую Лолиту) за миг до ее облачения под самое горло (мало что до пят — почти до конских копыт) и вознесения на коня в позе брюлловской Всадницы-двойницы, мистически сочетающей в себе Рим первый с тем самым, «четвёртым, которому не бывать» в контекстах творчества Карла Брюллова. Напротив, неурезанная версия текста — рецензия-рефлексия по поводу «Серпа...» (опубликованная в полном варианте в третьем номере полнотекстовой версии «Международного журнала исследований культуры» и вошедшая в книгу А.П.Люсого «Поэтика предвосхищения»[1]) возвращает утраченный образ Всадницы в авторской констатации «в петербургском тексте наличия двух визуальных полюсов — Всадника и Всадницы (или, как у Бориса Пастернака, «измученной всадницы матраса», не в ущерб более ранней картины с таким названием кисти Карла Брюллова)»[2]. «Лаканомика» — озаглавлен в полной версии сей текст. Лестно послужить поводом для термина столь культурологически оправданного, за что Александру Павловичу глубочайшая благодарность. Так и хочется воскликнуть, адаптируя к новому петербургскому fin de sciècle известную цитату из fin de sciècle прошлого: «И жаль его, предельно жаль, он тоже получил от детства Лакана странное наследство — économie libidinale». Особо выделяет в своем лаканомическом анализе Александр Люсый «попытку построить триангулярную структуру коммуникативного поля желающих субъектов» в «диалектике Слонопотама» и ее развитии в авторской песне — у представителей советской «себлайм-культуры» Булата Окуджавы и подзнесоветского/постсоветского постмодернизма Михаила Щербакова. Неожиданно раскрывшаяся в уже единожды рассмотренном тексте последнего перспектива Всадницы заставила меня (в качестве и субъекта интерпретации, и ее объекта одновременно) изрядное время спустя вновь «взяться за перо». Повторю здесь собственную цитату, которую приводит и Люсый в полной версии своего текста: «Щербаков (...) снимает либидинальное напряжение субъекта речи, превратив его в подателя фактов, тем самым ставит лирического субъекта в позицию невозможной дискурсивной ситуации (где и зачем он говорит ей всё это?), вместо этого сообщая самому нарратору модальность лакановского Che vuoi? — вопрос, на который лирический субъект «Заезжего музыканта» мог бы ответить весьма конкретно…»[3]. Еще одна исследуемая энигма текста (песни Михаила Щербакова «Циркачка») — предельная универсальность ситуации центрального женского субъекта травмы в сочетании с ее предельной алогичностью: как связаны причина (внезапный отъезд возлюбленного) и следствие (кочевая жизнь героини в бродячем цирке)? в чем причина этой причины и ее внезапности? где и как возможна ситуация дискурсивного воспроизведения этой истории? кто, в конце концов, является адресатом истории и нарратором повествования? Хотя Набоков (как главный автор в интертексте Щербакова) в «Лолите» и дает нам альтернативное развертывание «коллизии Слонопотама» в своем фрейдолакановом «Курилкеильти», однако он не дает никаких ответов на поставленные вопросы. При этом генеалогическое опосредование связи поэзии Щербакова с поздней прозой Набокова в еще одном преемнике Набокова, уже «официально благословленном» — Саше Соколове и его «Анти-Лолите» — «Палисандрии» позволяет с точностью восстановить утраченную логико-дискурсивную связку, возвращая в кавалерийский контекст (приоритетный и для Соколова, и для Щербакова в интересующем нас аспекте) «ледяную принцессу», Лолиту-Венеру с ее кровавого праотцового Боттичеллиевого серпа, космогонически раз и навсегда определившего единственно возможный контекст зарождения любви в европейской культуре. Множественные глоссарные совпадения идиолектов Соколова и Щербакова, изобилующих редко употребимыми словами, именно в нём, в кавалерийском контексте, прежде всего выделяются («шпрехшталмейстер», «вольтижер», «форейтор» и т. п.), хотя возможно привести и ряд других глоссарных совпадений, не встречающихся в подобных комбинациях у других авторов («трепанги» и др.). Всё это позволяет назвать Соколова и его «Палисандрию» контекстом формирования творчества Щербакова (хронологическая точка пересечения — 1985, год окончания романа, год начала «кассетной революции», сразу обеспечившей Щербакову «широкую известность в узких кругах» — в первую очередь, профессиональных филологов, к которым принадлежит и сам автор). В авантюрной биографии героя романа Соколова, гермафродита Палисандра Дальберга, третьеримского («эмского») «кремлёвского сироты», не столь отдаленного потомка Григория Распутина (Сибирь — Петербург) и Лаврентия Берии (Кавказ — Москва), о чем автор неустанно напоминает с первых страниц, встречаем и такой эпизод: «В таком энергическом настроении влилось я тем незапамятным вечером в несколько необычный, точнее, единственный в своем роде художественный коллектив — труппу странствующих проституток»[4]. И несколькими страницами далее читаем: «А тут еще мои экзальтированные товарки с их воздыханиями о первой любви — ах, чему еще предаваться странницам на привалах. Истории женщин были душещипательны и единообразны: всем им некогда наобещали с три короба, всех соблазнили иль изнасиловали и всех покинули. И вот они перед Вами. В походе о первой любви рассказывается у костра, по кругу, и Вы не можете отказаться от исповеди, хотя бы и выдуманной»[5]. Встречаем мы не только сюжетную, но и ритмическую, силлабо-тоническую взаимосвязь двух текстов: «Тьма наступала и миновалась» (ср. с первой строкой песни Щербакова: «Дрожь унялась, казнь миновала») — и так определяется хронотоп «у-костровой» исповеди самого Палисандра, завершаемой словами: «Не плачьте, сударыни... Пора в дорогу, светает» (ср. с последней строкой песни Щербакова: «Эй, лошадей! Ночь на исходе... Чёрт бы побрал эти ухабы»). «И — в сторону: «И ты тоже не плачь обо мне, Россия. Не плачь, ведь тебя больше нету. Как и меня. Нас нету. Мы перешли. Отболели. И все-таки — да здравствуем мы, вечно сущие в области легенд и преданий, мы, обреченные вечной разлуке брат и сестра» (...) о Рек, о Родина!»[6] — эта тема единственной неперверсивной ностальгической целомудренной любви Палисандра (в остальном — идейного геронтофила) отсылает нас уже, конечно, не к Щербакову, но непосредственно к Набокову в целом ряде его произведений: «Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» (ни разу, конечно же, не об Аннабель-Ли). Так раскрывается универсальность синтезированной истории, утратившей у Щербакова черты нарративности. То, что женский субъект песни есть коллективный субъект, непосредственно явствует из описанной Соколовым ситуации; более того, это универсальное «ты» (на котором песня Щербакова выстраивается), обращённое нарратором к воображаемой адресатке, мы встречаем в другом фрагменте «Палисандрии», который почти дословно воспроизводит центральный куплет песни, определенный нами как «ядро травмы»: ...Как в роковой тот понедельник У Соколова читаем: «Снова — как некогда — вошел он к тебе без стука и, подбоченясь, надменно овладевает тобою — без заверений, без клятв, и назавтра — чуть свет — отъезжая в заброшенной грязью пролетке — даже не обернется (курсив мой — О.К.)»[7]. Этот персонаж, обозначенный Соколовым как «проезжий корнет», отсылает нас в первую очередь к одноименному стихотворению Некрасова (о третьем «подражании Некрасову» Иосифа Бродского также скажем — несколько позднее), где монолог от лица некоего условно заинтересованного безличностного морализирующего нарратора также обращен к некоему женскому «ты». К другой песне — псевдонародной, хорошо забытого авторства украинского поэта Евгения Гребинки (современника Некрасова) «Помню, я ещё молодушкой была» отсылает альтернативная версия истории, тут же приведенная Соколовым, но в ней акцентирован момент возвращения и травматического повторения; эта версия дает повод к прочтению фигуры нарратора как «того самого, возвернувшегося» (слипанию героя-субъекта и «Другого-Слонопотама»), только повторение, относимое Щербаковым к наиболее травмирующей реплике: «Эй, лошадей!» (считать ли прямой речью: «Ночь на исходе…» - также важный вопрос), Сашей Соколовым отнесено к повторению перефразированной цитаты из текста Гребинки: «О, как жалобно он стонал!» При этом внятно звучит и отсылка к «Темным аллеям» Бунина (прежде всего к одноименной вводной новелле, но и к сборнику в целом), воссоздавая атмосферу помещичьего дома с органичной в бунинском лексиконе «дворней», именно «сонной», откуда вскоре после внезапного отъезда барчука изгоняют и воспитанницу-сироту; речь о раз и навсегда утраченном в измерении травмы месте (о раз и навсегда остановленном времени травмы, о её тотальном фатально-пустом не-месте — весь бунинский «Суходол») и о повторной встрече, фиксирующей всю промежуточную жизнь как пустотный пробел, провал. Всё временение многосюжетной эротической эпопеи Бунина происходит в дизъюнктивных событиях, внезапных прерываниях, в сплошном: «Эй, лошадей!» — также подчиненное лакановской пунктуации, логике оборванного сновидения; в нем нет ничего длящегося. Итак, бессмысленно искать генеалогию щербаковской героини во многих единичных «профессиональных» циркачках — от циркачки Кати Марка Алданова (роман «Истоки», 1950) до циркачки Полы Петра Чардынина (фильм «Молчи, грусть, молчи», 1918). Если более поздняя песня Щербакова «Циркач» в подробнейших деталях живописует быт и бытие циркового акробата, то род занятий «Циркачки» (если бы принять его за чистую монету) ограничен в описании одним атрибутом («новая ширма») и двумя опциями («петь снегирём, выть по-собачьи»). О «ширме» уже было сказано ранее: «Вопрос неожиданно для меня разрешила моя мама: «Ширма — то, за чем переодеваются и раздеваются»[8]. Странным образом эта «новая ширма» позднее срезонировала с «новой ширмой», заказанной для «Истока мира» Курбе Сильвией Батай (Сильвией Лакан): Реальное должно быть прикрыто ширмой, рисунок которой повторяет в точности его контуры» [9]. Что касается двух помянутых умений, то, в предельном прояснении соколовским подтекстом, первое из них снова дважды отсылает нас к Некрасову. С одной стороны, монотонная, на одной ноте, песнь снегиря обиходно характеризуема некрасовской цитатой: «Этот стон у них песней зовется», с другой же, аллюзия на «Любовную песнь Иванова (подражание Некрасову)» Иосифа Бродского неизбежна. Мигрирующее место субъекта-нарратора в песне Щербакова, которое мы уже имели случай отметить ранее, на вопросы «кто говорит» и «зачем говорит» (редуцирующие ситуативно невоплощённый голос в т.ч. и к ретроспективно явленному «ему» травмы, и к собственному внутреннему голосу героини) дает нам возможность ответить исключительно цитатой из «Палисандрии», репрезентирующей фантазм Палисандра и весьма точно характеризующей, как нам видится, и творчество Щербакова в принципе: «...я (...) длил порыв соучастия и служил у моей периферийной вдовы то корнетом, то генералом, то мясником. Поочередно и вкупе. А после снова поставил себя на ее место и больше уже сочувствуя, нежели соучаствуя, подвергся уничижению сам — мясником, корнетом и генералом; а также самим собой. Причем это, последнее, изо всех безумств было, пожалуй, изысканнейшим»[10]. Здесь постмодернистски снимаются оппозиции нарратора — наррататора, адресата — адресанта, мужского — женского. В этом контексте тройная коннотация (в зависимости от позиции нарратора) щербаковского травматогенного кавалерийского рефрена: «Эй, лошадей! Ночь на исходе...» (с прибавлением во втором произнесении: «Чёрт бы побрал эти ухабы») приобретает и вполне конкретное техническое указание (образуя триаду с двумя предыдущими элементами «техне циркачки»: «петь снегирем, выть по-собачьи»), трансформируя постмодернистскую иронию автора в перверсивный постмодернистский сарказм. Чистая монета как неразменный рубль принципиальна в тексте, ведь денежный фактор приостанавливает череду спекуляций символическим капиталом, нехваткой и воображаемым избытком в либидинальной экономике, трансформируясь в фактор этический, знак честности и чистоты (фактор, прельстивший некогда бесприданницу Островского, не успевшую им насладиться: «в Париж, на выставку»). Нарратор Щербакова отмечает «медные деньги», служащие якобы постоянной получкой героини, но в конце сам расплачивается «горстью серебра» (будучи, как было сказано выше, и «клиентом», и коллегой-Палисандром, и «тем самым» возвернувшимся как бы одновременно) — здесь возникает длящаяся жертва «вечной Сонечки» с сакраментальным библейским тридцать, лейтмотивное в творчестве Достоевского, дважды упомянутое и в монологе Мармеладова: тридцать цéлковых (по Достоевскому) сребренников — и тридцать медяков (копеек), последних, вынесенных ею папеньке на пропой. Однако же у Щербакова последовательность обратная: как будто он с этими целковыми возвращает «ей» девственность («Там наконец ты станешь опять свежа, молода, чиста» — из песни «Менуэт»), которая функционирует как, ещё раз процитирую «Тьму» Леонида Андреева, «как неразменный рубль». Так энигматичный нарратив Щербакова, выстроенный как интимное consolatio, комбинирующий реверсивную темпоральную структуру с фрагментом нарратива вставного, обусловившего причинность, резюмируется, замыкаясь, фразой Соколова: «“Нынче — даром”, — сказало я, мысля шальную, с надрывом, ночь — ночь возмездия». Подобное состояние прострации-атараксии возникает у персонажей и Соколова, и Щербакова под воздействием стимулов кавалерийского порядка: героиню Щербакова беспрерывно возвращает в ментальную дыру травмы позвякивание «звонкой сбруи» и звук «хлыста вольтижера», персонажа Соколова — увиденные в краеведческой галерее в Салониках ясли, «сработанные местными мастерами по заказу Екатерины Великой». Конная поступь империи хронотопирует индивидуальную травму; Палисандр Дальберг кентавричен по своей сути, сочетая в себе мужское и женское физиологически (как некий метафизический «яньдрогинь» — неологизм В.Л.Рабиновича, также инспирированный «Серпом…»), человеческое и лошадиное — метемпсихотически (Гермеса и Афродиту — ту, Боттичеллиеву — сплавляя с конем в существе своем), постоянно анамнетически апеллируя к своему предыдущему воплощению (одному из) — орловскому жеребцу императрицы Екатерины. «Канон всадницы» уверенно утверждается Соколовым в его «хроноодиссее трёх империй» (третьей — вымышленной, «Российского Кладбищенского Зарубежья»); «Катрин Алексевна» лишь увенчивает собою иерархию женских персонажей Соколова в целом ряду кавалерийских эпизодов — от полуисторической «Виктории Пиотровны» (Брежневой) до вымышленной Мажорет Навзнич, легитимируя подобный канон репрезентации в имперской культуре. «Яньдрогинь» Соколова вписывает в «канон всадницы» и ещё одного Григория, парадигмального не только в биографии Палисандра и в истории российской государственности, но и в культурологической картографии территории современной Украины — Григория Потёмкина. Таким образом, границы имперского нарратива раздвигаются далеко на Юг, захватывая Малороссию и Тавриду. Спешенная всадница, единая на симметричных пьедесталах Пальмиры Северной и Южной, — всё всадница в кольце сподвижников, окружающих пьедестал у её подножья. Именно южный, южнопальмирский дискурс (дискурс одесского анекдота) утверждает новый маскулинный полюс новой имперской топологии — памятник Георгию Константиновичу Жукову, который фольклорная одесситка характеризует фразой: «Замечательно, я вообще люблю лошадей» (демонстрируя свою гражданскую лояльность и тонкий эстетизм), а представитель круга одесской герменевтики, негласно именуемый «одесским Сократом», философ Алексей Николаевич Роджеро, предлагает в развитии сюжетов «Серпа…» уравновесить полюсом Венеры, очевидно, Матиссовой и Бабелевой, уже не Боттичеллиевой. Григорий и Георгий сливаются в постсоветском дискурсе фантомных имперских образований. Памятник триединому Григорию (оговорочно и симптоматично так поименованному мной в онлайновом диалоге с А.П.Люсым) российского имперского дискурса, так или иначе кавалерийского — импровизированному Георгию-Победоносцу, сражающему змия на глобусе Украины и Грузии (!), таится за горсоветом г. Донецка (отдельная благодарность профессору Донецкого национального университета Алексею Олеговичу Паничу за ознакомление меня с этим поразительным артефактом). В нескольких сотнях метров от него — памятник Джону Джейсу Хьюзу, отцу-основателю нынешней «неофициальной столицы» теневой Украины (во время оно — заводского посёлка в развивающемся индустриальном регионе), подданному, что немаловажно, королевы Виктории. На южном побережье Крыма весьма гармонично соседствуют полумавританский-полуготический (также «кентаврический» в стилевом отношении) дворец внучатой племянницы Потёмкина (и родственника британских лордов, воплощённого англичанина николаевской эпохи) с беломраморным дворцом «императрицы модерн», внучки королевы Виктории — также имеющей отношение к третьему Григорию имперского дискурса, утвердившем в культурном тексте Серебряного Века другую, горизонтальную, бинарную ось русской классической традиции: «Петербург — Сибирь», в противовес первой, вертикальной: «Север — Юг», проходящей по западной части условной страны. Совсем уж невероятным образом Саша Соколов генеалогически связывает его с другой Викторией, сообщая: «И, наконец, трижды блажен тот же самый узник, посильно отмстивший убийце своего деда Г.А. Распутина — князю Ф.Ф. Юсупову, познав в лице В.П. Брежневой дочь убийцы; пусть даже и незаконную». Если наш прежний композиционный полумесяц, начинаясь одним визуальным штампом советской культуры — Неизвестной Крамского (маркированной как «всадница петербургского текста»), завершался другим — Победой-Викторией, невозможной Родиной-Матерью, отождествимой с британской Викторией, то меж двух имперских самодовлеющих монументальных воплощений невозможности возникает третья, фантазматическая «Виктория Пиотровна» Брежнева, автоматически проецируя все перечисленные Соколовым кавалерийские коннотации на оба монумента. Так (великая) отечественная «Виктория Петровна» (брежневских времен название киевского монумента Родины-Матери, закрепившееся в городском фольклоре) репрезентирована как наездница дважды, смыкая трансгрессивную Брежневу у Соколова с фольклорно-мистической гоголевской панночкой, также введенной в контексты интерпретации А.П.Люсым в связи с необходимостью выделения украинского контекста исследования в независимый, вне-пост-имперский. Имперский дискурс непосредственно сопряжён с фактором цензуры; по разные стороны её лезвия оказались в истории позднесоветской литературы Саша Соколов и его стилистический близнец Владимир Орлов, уступающий ему масштабом дарования, хотя и блестящий сам по себе. Однако же уникальность Щербакова как автора в том, что, почти дословно натягивая универсальную историю травмы на нарративный каркас Соколова, он оставляет её в первую очередь именно болевой историей травмы, каковой она не перестает быть, предельно проясненная подтекстами Соколова, но не обращаясь всё же в скабрезный анекдот. К нему уместно применить из «Палисандрии» отзыв якобы Василия Аксёнова о прозе якобы самого Палисандра: «В Вашей прозе нет ничего конкретного. В ней все размыто и запредельно. Она похожа на цепь облаков, баловливо смазанных бризом, и уследить, где кончается то и начинается се, особенно в эротических сценах, почти немыслимо»[11]. Так возвращается в текст культуры искомое фундаментальное целомудрие, находимое в непроницаемом ли холоде Неизвестной-Всадницы, в жесте ли отчаянного гумбертовско-свановского эйстезиса, необходимого, по мнению А.П.Люсого, и синтезирующего искусство и жизнь. (Написано за вечер 22.04.2013 в поезде Киев-Симферополь на контрастах вновь-простудного жара и уже ощутимо сквозящих крымских бризов). [1] Люсый А.П. Поэтика предвосхищения. Россия сквозь призму литературы, литература сквозь призму культурологии. Теоретическая комедия. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. [2] Люсый А.П. Всадница Лакономики. // Международный журнал исследований культуры (онлайновая версия). / URL: http://www.culturalresearch.ru/ru/hist-c/64-lackanom (дата обращения 24.05.13) [3] Кириллова О. Серп холодной луны: реконструкции моделей чувственности. СПб: Алетейя, 2010. С.92. [4] Соколов С. Палисандрия. / URL: http://www.gramotey.com/?open_file=40119477531102 (дата обращения 24.05.13) [5] Там же. [6] Там же. [7] Там же. [8] Кириллова О.А. Серп холодной луны. С.96. [9] Там же. [10] Палисандрия. Там же. [11] Палисандрия. Там же. |






















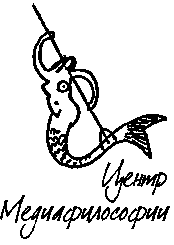
 К проблеме наездницы русского постмодернизма
К проблеме наездницы русского постмодернизма